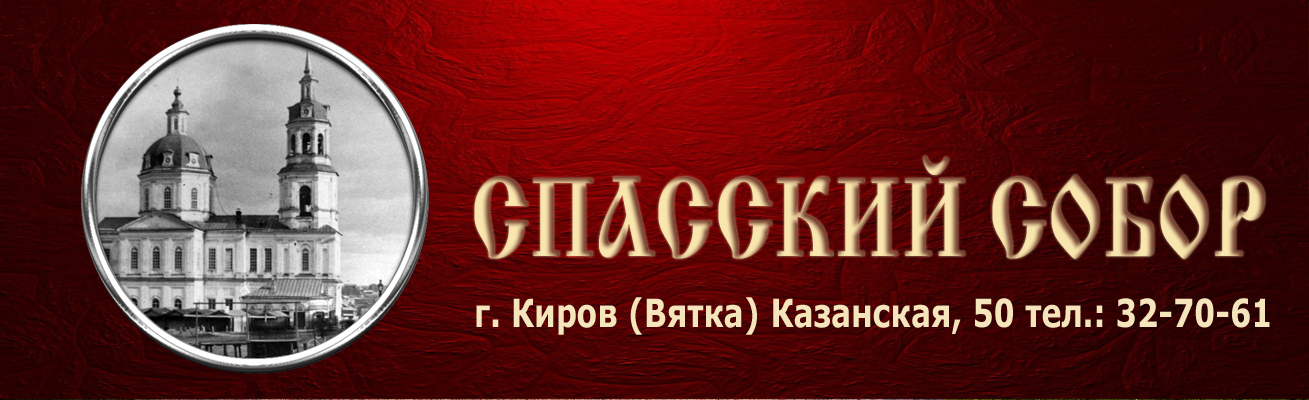Христос воскресе! Сейчас вы слышали, какое чудо совершил Господь наш Иисус Христос, когда пришёл в Иерусалим. Там, в Иерусалиме, в этом большом храме, который был построен царём Соломоном, было «отделение», где лежали люди больные и немощные. И вот, зайдя в это «отделение», Спаситель увидел одного человека, который уже в течение 38-ми лет здесь лежал, будучи расслабленным, т.е. не имея физических сил, чтобы ходить.
И вот, увидев его, Спаситель подходит к нему и спрашивает: «Хочешь ли ты быть здоровым?». Он отвечает: «Хочу, но не имею того человека, который бы меня в эту купель опустил, когда в неё входит ангел». И вот Господь, видя его веру и надежду, которую он не потерял за 38 лет, говорит ему: «Встань и ходи». И он встал, взял свой одр и стал здоровым. То есть Господь даровал ему силы, возможность снова ходить, быть полноценным человеком.
Почему, как Господь совершил это чудо? Потому что Христос — есть Бог, в Нём полнота божества, и в Нём полнота божественной силы. И Он даровал этому человеку, по вере его — в течение 38-ми лет он был больным, расслабленным, но не отчаялся, и всё равно хранил в сердце своём надежду на то, что Господь когда-нибудь его исцелит, — и вот пришёл Сын Божий, и по вере его даёт ему эти силы, физические силы из Своего источника полноты божества, и расслабленный получает возможность ходить, быть нормальным, обычным человеком.
Этот расслабленный, который не мог ходить, не мог пошевелить ни рукой, ни ногой в течение 38-ми лет, — это есть образ человеческой души. Большинство людей как раз пребывают в таком духовном состоянии, и многие из нас с вами тоже имеют расслабленную душу. Человек, который был расслабленным, не мог получить исцеление, пока не встретил Христа. Так и душа человека: она тоже расслабленна и не имеет сил, пока не встретит в жизни своей Спасителя своего, Господа Иисуса Христа, Который по вере её может дать животворящие силы. Как тело, для того, чтобы жило, нуждается в физической силе, так и душа человека, нуждается в духовной силе.
Сейчас мы больше всего надеемся на свои физические силы: думаем, что мы здоровые, в нас есть физические силы, и мы сможем всё в нашей жизни. Человек крутится-вертится, но у него ничего не получается. У него не получается добиться того, чтобы в семье были мир и благополучие; у него ничего не получается на работе: всё валится из рук, не получается добиться того, чтобы хорошо работать и получать хорошую зарплату. Всё не получается: ни в жизни нет благополучия, в душе его какая-то тяжесть, уныние постоянное… Почему? Всё потому, что у человека нет внутренних духовных сил.
Нередко говорят при этом, что на этого человека наслали зло или наговор какой-то, поэтому у него ничего в жизни не получается. Ничего подобного! Нет никакого зла, нет никакого наговора, есть только расслабленность души. И вот эта расслабленность души, отсутствие внутренних духовных сил человека, и не позволяют ему добиться никакого внутреннего благополучия в своей жизни.
До тех пор, пока человек не обратится ко Христу, и не получит этой животворящей духовной силы, в его жизни ничего не получится. У него не будет внутренних духовных сил, чтобы любить ближнего своего; не будет духовных сил, чтобы создать семью, в которой будут мир и благополучие, потому что для этого нужны божественные силы; у него ничего не будет получаться на работе, потому что как бы он ни старался, у него не будет внутренней творческой энергии, которая помогает ему что-то творить, что-то создавать, и приобретать не просто какой-то внешний продукт, но в первую очередь, получать удовольствие, удовлетворение от того труда, который он совершает. Только если у него будут внутренние духовные силы, в его руках будет всё оживать. Он будет получать и материальное, и духовное удовлетворение от своей работы. Только тогда, когда появится благодать в сердце человека, которую дарует воскресший Господь наш Иисус Христос, только тогда он обретёт в душе своей мир, внутреннее равновесие и спокойствие.
А до тех пор, пока человек надеется только на свои физические силы, в его жизни никак ничего не будет получаться. И только тогда, когда он осознает, что духовно он такой же расслабленный, как и вот этот человек, который 38 лет лежал и не мог пошевелиться, только тогда в нём появится надежда. Надежда на то, что в жизни может что-то измениться. Изменится, если придёт Христос, как к этому расслабленному, и дарует ему эти духовные божественные силы. А Христос обязательно придёт к такому человеку, как пришёл к этому человеку, который не отчаялся, но продолжал молиться и верить, что придёт Господь и обязательно его исцелит. И Он, по вере его, пришёл и исцелил.
Так и к нам Господь обязательно придёт, если мы никогда не будем отчаиваться, и будем надеяться на Господа, на Его помощь. И самое главное: мы должны помнить о том, что как каждый день нам необходимо есть хлеб, необходимо питаться, для того, чтобы были физические силы, чтобы ходить, чтобы что-то делать, точно также наша душа нуждается в духовной пище. И, как если человек день пробудет без еды, то к концу дня его силы оставляют: он становится беспомощным и расслабленным; так и душа человека: если она день прожила без благодати Божией, она тоже становится расслабленной, не способной на любовь к ближнему, ни на какой-то творческий труд. Она пуста, как безводная пустыня, и человек испытывает внутреннюю жажду, тяжесть и внутренний раздрай.
И вот необходимо питать душу свою точно также, как мы питаем своё тело. Каждый день, утром, вечером, а хорошо бы и днём, чтобы душа наша насыщалась благодатью Божией, той божественной силой, которая делает человека сильным и счастливым.
Священник Пётр Машковцев
11 мая 2014